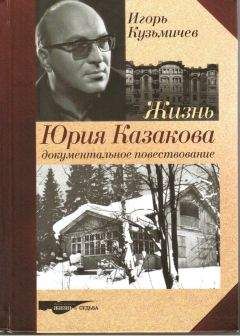Не претендуя на обобщения и лишь взыскуя правды о самом себе, казаковский герой в своем мучительном самоанализе неизбежно приходит к осознанию себя правомочной, мыслящей частицей человечества, к осознанию своей личной причастности к судьбе будущего. Как человек, «появившийся для чего-то в один прекрасный день в этом мире и обреченный уйти из него в конце концов», человек, для которого жизнь проста и естественна, он не ищет в ней высшего смысла — «смысл не ему решать», — однако всем своим существом чувствует, что «если жизнь человечества бессмысленна, значит, бессмысленна и его жизнь. А если жизнь всех неисчислимых миллиардов, прошедших и грядущих, наполнена смыслом, значит, и его жизнь имеет великий, таинственный смысл в цепи всех поколений».
«Мир сегодня, — заявлял Казаков в 1963 году, — не просто дни без войны. Это бесконечное развитие жизни. Поэтому и повесть свою я задумывал и писал не только как антивоенную. Мысли ее героя обращены к главному — к историческим судьбам человечества».
Повесть не далась писателю с единого замаха. Стараясь понять, что же ему мешает, Казаков в 1963 году размышлял в дневнике: «...все кажется не то — очень много тяжелых рассуждений о войне и некоего раската, — того самого, который так удавался Толстому. Т. е. прежде чем подойти к сюжету и взять быка за рога, долго описываешь вообще — настроение того времени и т. д.».
Будучи недоволен своей работой, Казаков до конца своих дней не оставлял намерения справиться с повестью, считая ее той обязательной для себя вещью, «которую все-таки писать надо».
В 1964 году Казаков сообщал «Вопросам литературы»: «Сейчас у меня наступила интереснейшая пора в работе над повестью: я должен «сделать» некоторые архивные изыскания. Хотя время, о котором я пишу, еще живо в памяти всех нас, а время это — 1941 год, но это уже одновременно и история. И вот для того, чтобы эта история была как можно более точной, я хочу порыться в архивах Великой Отечественной войны. Никогда так не боялся самого себя, своей неумелости, как сейчас, во время работы над этой повестью. Повесть эта будет называться «Две ночи».
И все же этот магистральный замысел не был реализован. Уже в 1979 году Казаков рассказал, что в свое время наполовину написал «повесть о мальчишке, который пережил войну, бомбежку, 1941 год», — под названием «Разлучение душ». Действие ее должно было завершаться в начале шестидесятых годов в Кракове и Закопане: тогда, согласно какому-то астрологическому «предсказанию», следовало ждать «конца света» — и писатель использовал эту апокалипсическую ситуацию как своеобразный прием, перенеся в повесть «ту атмосферу».
«Возраст Иисуса Христа», «Две ночи», «Разлучение душ» — вариации и осколки одного неосуществленного произведения, порожденного воспоминаниями о военном детстве, и понятно, почему Казаков с такой ответственностью и опаской прикасался к столь больному для него материалу.
Потрясенное сполохами мировой катастрофы, ломкое сознание тринадцатилетнего московского мальчишки, едва пробудившись, выдержало натиск поистине нечеловеческой силы. Испытанное им душевное напряжение и та нравственная высота, с которой, по зрелом размышлении, казаковский герой оглядывал и судил самого себя с присущим ему духовным максимализмом, позволяли брать для сравнения самые проверенные всечеловеческие образцы, не избегая и древней символики. При доскональном знании бытовой обстановки военной Москвы, Казаков в «Разлучении душ» задавался целью, не подчиняясь быту, не замыкая в нем своего повествования, вывести это повествование на уровень общезначимой бытийности и дать собственную художественную концепцию решающих мировых явлений первой половины XX века.
В сборнике публикуются три отрывка из повести.
«Ночь первая» в свое время подготовлена к печати в виде отдельного рассказа самим автором.
«Арбат был завален обломками...» — серия подобранных составителями набросков, непосредственно связанных с «Ночью первой», в них пунктирно прослеживается внутренняя эволюция главного героя повести.
«И уже пять лет...» — наброски, относящиеся, по всей видимости, к другому сюжетно самостоятельному варианту повести, но с родственным, в сущности, тем же героем: его размышления о войне, о счастье, о смысле жизни воссоздают духовный облик человека того же поколения и схожей судьбы.
Казаков принимался за работу над этой повестью неоднократно. Сохранилось несколько ее зачинов, первых страниц — текстуально они друг друга не во всем повторяют. Сохранились также неотделанные, черновые страницы с более подробным описанием московской военной ночи — в них нет четкой последовательности, отчего возникает трудность их публикации без сопутствующего комментария.
Кроме названных набросков, в орбиту замысла повести «Разлучение душ» попадает рассказ «Зависть», где тоже фигурируют воспоминания о «первой ночи», о Москве 1941 года, — этот рассказ Казаков опубликовал в свое время в журнале «Простор» (1965, №1), но в книги свои никогда не включал. Определенная перекличка с повестью (со вторым ее вариантом, где один из эпизодов связан с Ленинградом) наблюдается, на наш взгляд, и в рассказе «Пропасть». Он написан Казаковым не позднее 1958 года, еще до возникновения замысла «Двух ночей», но при жизни автора по каким-то причинам не был напечатан. Этот рассказ, как явствует из письма Казакова к матери (18 ноября 1958), имел, между прочим, два варианта финала: в одном — героиня уезжала, в другом — умирала. В рукописи, которая публикуется, последние страницы рассказа отсутствуют.
Среди прочих казаковских замыслов, представленных в сборнике, обращают на себя внимание те, в которых, как и в повести «Разлучение душ», присутствует так или иначе тема смерти, сквозная тема казаковских рассказов, чаще всего трактуемая широко — как тема жизни и смерти, тема веры и бессмертия.
Один из набросков — «Навсегда-навсегда...». Это, как и в ряде других случаев, — первая страница рассказа, и пока трудно сказать, была ли она единственной. На этой странице дана картина «ослепительного утра середины марта» на крохотном кладбище, где два парня — Егор и Вантяй — сидят у вырытой ими могилы, предназначенной для московской артистки, «неизвестно почему пожелавшей лежать на кладбище именно в их деревне». Судя по всему, сценка эта представляет собой начало того «свирепого рассказа», про который Казаков писал Э. Шиму в 1969 году: «...герой хоронит свою любовницу-актрису за городом, в церкви отпевает и все такое, март, чистота небес, прозрачность леса, снег, заметенные, будто облитые глазурью могилы и проч. прелести...» А затем, по дороге домой, герой рассказа соблазняет подругу умершей, и вопиющая бессмысленность этого выморочного поступка нависает над героем жестокой моральной карой.
Другой набросок — «Ангел небесный» — всего двенадцать строк, но их, кажется, достаточно, чтобы увидеть «странного, странного» человека, равнодушного ко всему на свете, и к чужой смерти тоже, человека, не ведающего ее великого таинства...
Еще набросок — страничка о смерти Чифа, любимой собаки Казакова. Плач по Чифу как по человеку, по живой душе, горе от сознания быстротечности всякой жизни и вместе с тем восхищение ее мощью и красотой...
И наконец набросок с названием «Смерть, где жало твое?» — три с половиной страницы, посвященные судьбе Николая Михайловича Акользина, бывшего кандидата и доцента, москвича, а с недавних пор лесничего в глухих северных краях, куда он приехал по своей доброй воле — приехал, собственно, умирать...
Еще когда сумрачным дождливым днем плыл он на пароходе по осенней реке, «что-то сдвигалось в нем, открывалась какая-то пустота, в которую он не заглядывал раньше, и странные мысли о времени, о жизни появлялись у него». Предвестие этого сдвига и духовное преображение Акользина и должно было, по всей вероятности, стать предметом повествования.
В ранних казаковских рассказах (таких, как «Ни стуку, ни грюку», например) юный восторженный охотник-созерцатель убегал из столичного города на лоно природы, дабы насладиться ее прелестью, не слишком вдумываясь в причины своего безотчетного влечения. И вот на закате жизни уходил в природу человек, привыкший «думать и говорить исторически», пользовавшийся широкими категориями, человек, пытавшийся понять: «Что же такое жизнь? Где она и в чем ее главное направление?»
Со свойственным ему художественным лаконизмом, Казаков на нескольких страницах обнажает суть того внутреннего конфликта, который гнетет Акользина, — конфликта разума и сердца, воли и смирения, рациональной учености и интуитивного знания, конфликта, во многом определяющего жизненный выбор каждого человека. В том «душевном пространстве», какое нес в себе Казаков, а следовательно, и в художественном мире его прозы этот конфликт изначален.
Но было бы неверно думать, что темой смерти исчерпываются неосуществленные казаковские замыслы. Замыслы у него были самые разнообразные — и веселые, легкие, праздничные: например, фрагмент безымянного рассказа о том, как молодой московский инженер-химик Саша Скачков собирался ехать туристом в Париж; и озорные, сатирического оттенка: набросок рассказа об аспиранте Федоре Коне, который думал «преимущественно о двух вещах» — о бросившей его жене и о своей диссертации «Роль случайности в истории русской цивилизации»; и замыслы, совсем уж для Казакова необычные.
![Юрий Казаков - Две ночи [Проза. Заметки. Наброски]](https://cdn.my-library.info/books/210606/210606.jpg)